Планета нагревается, а в будущем холодно. Радикальное воображение сместило с пьедестала лозунг «будущего нет», вернув читателям левых журналов и независимых медиа способность хоть иногда мечтать о лучшей жизни. Полностью автоматизированный труд, освобожденное время для отдыха и творчества, репродуктивная справедливость без необходимости рожать и страдать, государство без полиции — вот образы будущего, которые за последние пару лет распространились в публичной сфере. Они же подогрели и потребность в публичной критике технологий, которые могли бы приблизить нас к желанной утопии, но на деле захвачены разнообразными злыми силами и угрожают нашей безопасности. Но все это будущее оказалось чужим и далеким — согласны?
В 2021 году я потеряла и вернула себе будущее. Раньше мне нравилось пересказывать писательниц-фантасток и философов-утопистов, но теперь я хочу поделиться несколькими историями из собственной жизни и несколькими мыслями, которые кажутся мне то набором очевидностей, то поэтическими открытиями. А еще я сомневаюсь в уместности найденного способа вернуть себе будущее и хочу поделиться сомнениями.
30 декабря я с высокой температурой и больным горлом летела домой: Алматы — Астана, Астана — Новосибирск. Каждый день на следующей неделе мне писали знакомые и коллеги, с которыми я успела пообщаться за месяц алматинской командировки. В отличие от близких друзей, они не знали даты моего запланированного возвращения и беспокоились о моей безопасности — думая, что я оказалась в эпицентре казахстанских протестов и российской военной агрессии. Весь год я и почти все вокруг меня беспокоились о своей безопасности, а также возможности планировать работу и жизнь посреди все более агрессивного российского режима.
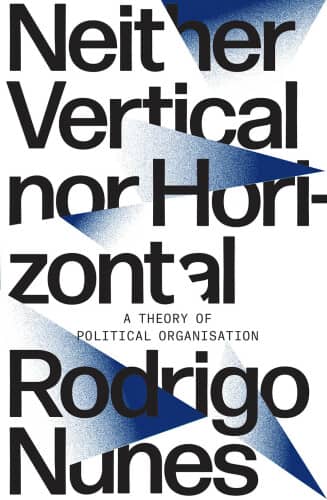
В первые дни наступившего года я дочитывала книжку под названием «Теория политической организации», которая вышла в мае и которую я бросила на полпути в августе. Это единственная книжка, которую мне все-таки хочется процитировать: «Быть радикальными значит <...> прислушиваться и быть готовыми исполнить ту партию, которой не хватает в партитуре, — а может быть, не исполнять ничего, если именно этого требует случай». Я прожила ушедший год со все нараставшей убежденностью, что пришла пора молчать. Молчать не значит бездействовать: отсутствие высказываний освобождает время для исследования, размышлений и оттачивания навыков. Но деятельность все отчетливее сопровождалась чем-то вроде синдрома отложенной жизни. Если говорить сейчас слишком опасно и как будто бессмысленно, то я могу бросить все силы и все внимание на подготовку к моменту, когда высказывание будет действительно необходимо.
Мой рабочий сезон — я занимаюсь кураторством в сфере театра — начинается осенью. Летом, в перерыве между сезонами 20/21 и 21/22, я много думала о времени и стратегическом планировании. Я искала альтернативу формальным показателям, по которым часто оценивают проекты: числу проданных билетов, количеству упоминаний в медиа, попаданию в премиальные списки. Ответом стал «средовой эффект» — количество и качество изменений, которые проект запускает в участниках и зрителях, будь то отдельные люди или целые организации, а также в тех, с кем уже после окончания проекта продолжают контактировать участники и зрители. «Средовой эффект» редко бывает линейным: чаще изменения копятся, общности тихо формируются или распадаются и вдруг какой-то побочный эффект, а вовсе даже не определенная заранее цель приходится ко времени и переворачивает общую игру. Это если смотреть с позитивной стороны. Есть и негативная: цели, которые были определены заранее, тоже запускают процессы, которые в изменившихся условиях — а условия постоянно меняются, ведь действующих лиц так много, — нередко оборачиваются не на пользу, а во вред. В общем, весьма шаткая конструкция. Если не парализующая.

В профессиональной среде ключевыми событиями за прошедший год для меня стали несколько конфликтов. В некоторых из которых я сама участвовала, а другие видятся мне производной в том числе от проектов, которые запускали мы с коллегами пару лет назад (см. спектакль «Кариес капитализма»). Я назову последний конфликт — увольнение куратора Ивана Исаева с позиции руководителя «Мастерских» музея «Гараж», почти сразу после которого резиденты «Мастерских» этого года Катя Бондарь, Дима Ефремов и Аня Толстухина запустили подкаст «что они делают?» об экономических, правовых и организационных составляющих труда в сфере перформанса, а также шире — современного искусства и театра. Выпуски «что они делают?» — это такой агрегатор достаточно заметных художественных конфликтов и мнений о них, но есть и моя собственная статистика. За прошедший год я вышла из одного проекта посреди работы из-за конфликта вокруг харассмента, негласно и по неизвестной причине попала в черный список одного театра почти сразу после окончания (недружелюбной) работы над совместным проектом, чуть не вышла из еще одного проекта посреди работы из-за юридических разногласий, не помирилась с театром, с которым успела поругаться пораньше — в позапрошлом году. За год у меня не было ни одного профессионального взаимодействия длительностью больше месяца, которое развернулось бы гладко.
В долгосрочной перспективе — нам хочется верить — конфликты позволят стабилизировать нашу общую шаткую конструкцию. В краткосрочной перспективе я чувствую себя очень плохой балериной с очень плохим вестибулярным аппаратом при исполнении фуэте. Фуэте — это когда кружишься на пуантах. Я не пробовала, но предполагаю, что потом хочется долго лежать — восстанавливать дыхание.
И я нашла способ восстанавливать дыхание. Мне помогла техника из книжек, которые вдохновляют на построение успешной карьеры, а именно, вопрос о желаниях через год, три и десять лет. В ушедшем году Владимир Путин и его соратники окончательно забрали у меня и моих соратников настоящее вместе с ближайшим будущим. Но ни у кого из нас Путин не может забрать будущее, в котором его уже нет. Я вспомнила про «средовой эффект» и спросила себя: а что сегодня я могу делать такого, чтобы это оказалось нужным через четыре года (нереалистично), девять лет (чуть более реалистично) и через пятнадцать лет (ну хоть когда-то же должно это кончиться)?
Ответ на вопрос о будущем неожиданно вырос из размышлений о связи с прошлым. Это мой очень личный ответ — наверное, ни у кого из нас эти ответы не совпадут из-за разницы в возрасте, опыте, да и ценностях.
Всю жизнь я часто чувствовала себя человеком без истории — когда в четырнадцать лет осознаешь свою гомосексуальность на фоне 2010-х в Волгограде (и еще не осознаешь, но уже переживаешь гендерную дисфорию), то вокруг себя почти не обнаруживаешь взрослых, чья жизнь могла бы стать ориентиром или хотя бы антипримером. Точнее, некоторые люди как будто посылают в мир какие-то расплывчатые сигналы, но скорее всего, это тебе мерещится и ты не решаешься спросить (а может быть, тебе хватает ума не спрашивать). И даже если решаешься, ну сколько отвечают: один, два, ну три. Остальные продолжают посылать расплывчатые сигналы.
В текущей российской ситуации я не могу повлиять на будущее так, чтобы все генераторы расплывчатых сигналов вдруг разом захотели покопаться в деталях своей биографии и вернуть потомкам право на богатое историческое наследие (см. отмену тульского литературного фестиваля «Хомяков home» из-за участия Оксаны Васякиной, блокировку сайта кинофестиваля «Бок о бок» и др.). Я не могу вырезать из своего опыта ощущение исторической потерянности, какое будущее себе ни строй. Но ведь это чувство потерянности — тоже история. И если потребность в связи времен у меня и у многих вокруг меня так сильна, то я могу зафиксировать хотя бы это чувство. Пусть лучше у людей через четыре года, через девять или пятнадцать лет будет возможность услышать о моем прошлом, чем не будет такой возможности. Услышать не значит принять. Возможно, наоборот, отринуть. Забыть. Но пока я здесь, мне нужны эта потенциальная память и даже это потенциальное забвение — эта потенциальная возможность выбора, чтобы как-то оправдать и насытить смыслом свое почти полностью парализованное существование в настоящем.
Я не живу настоящим, но и не откладываю жизнь — я живу в нескольких временах сразу. У меня есть стратегическое будущее, есть тактическое будущее и еще есть время реакции. Технически первостепенно тактическое будущее — оно про поддержание жизни, а значит, поддержание необходимого финансового благосостояния, необходимой работоспособности или способности к общению и необходимого количества жизнерадостности, без которой тоже невозможно функционировать. Но в прошедшем году я вырвала из мяса времени на тактическое будущее два жирных куска — моим способом позволить себе это оказался (внешне удивительный и странный) переезд из Москвы в Новосибирск, где я могу зарабатывать меньше, работать меньше и быть в дороге меньше. Здесь существование в стратегическом будущем побуждает меня — с большой радостью — писать для него истории о прошлом. А существование во времени реакции — замечать события, из-за которых прямо сейчас нужно рискнуть и резко поменять курс.
О времени реакции и исторической непредсказуемости я в первые дни 2022 года думала как никогда много. Я возвращалась домой из Алматы лоукостером, который задержал вылет первого рейса на три часа и вместо спокойной стыковки подарил мне истерическую пятнадцатиминутную пробежку по аэропорту Астаны. На сайте авиакомпании висели требования о ПЦР-тестах для всех пассажиров рейсов в Россию, не только для иностранных граждан, а представители лоукостера не отвечали ни по телефону, ни по электронной почте — и до прихода отрицательного результата я мерила температуру и готовилась продлевать алматинскую квартиру еще на пару недель. Теперь я думаю о том, как в полностью изменившемся политическом контексте продолжать проект об истории влияния алматинских (а также ташкентских) театров на московские — работу, которой я уже обязана почти всеми своими мыслями об историческом наследии, ведь где как не в имперских архивах рельефно видны процедуры ручного захвата, разрушения, пересоздания прошлого для установки будущего.
О стратегическом будущем я думаю все время — точнее, о его опасности. Ведь можно поверить в полную реальность стратегического будущего, забыть о других временах — и принести их в жертву. То есть принести в жертву людей, которые населяют эти времена. Я боюсь, что ради сохранения себя для большого и более свободного будущего выберу совсем замолчать сейчас, пропустив момент, когда партию перемен уже пора будет запевать, или, хуже того, ради сохранения себе для большого будущего присоединюсь к тем, кто сейчас говорит на стороне репрессивной государственной власти. Ведь поводов все больше — я занимаюсь кураторством в сфере театра, а за последний год стало окончательно ясно, что российская власть признала и забрала себе современное искусство, запустив в нем удивительные мутации (см. Путина на открытии «ГЭС-2», или сочетание антиукраинских речей с программами публичных перформансов на фестивалях вроде «Кузбасс феста» в разных городах России, или просто программу форума «Таврида арт» в Крыму — а он проходит за российскими заборами на территории бывшей природоохранной зоны, создавая напряжение даже среди тех местных жителей, которые к искусству отношения вообще не имеют).
И я не представляю, как видеть будущее и действовать, удерживая в голове все эти факторы (не)устойчивости нашей шаткой конструкции. Похоже — только дополняя расчетливую осведомленность случайной дозой интуиции. Интуиции, основанной на внимании к случайностям и частностям.

