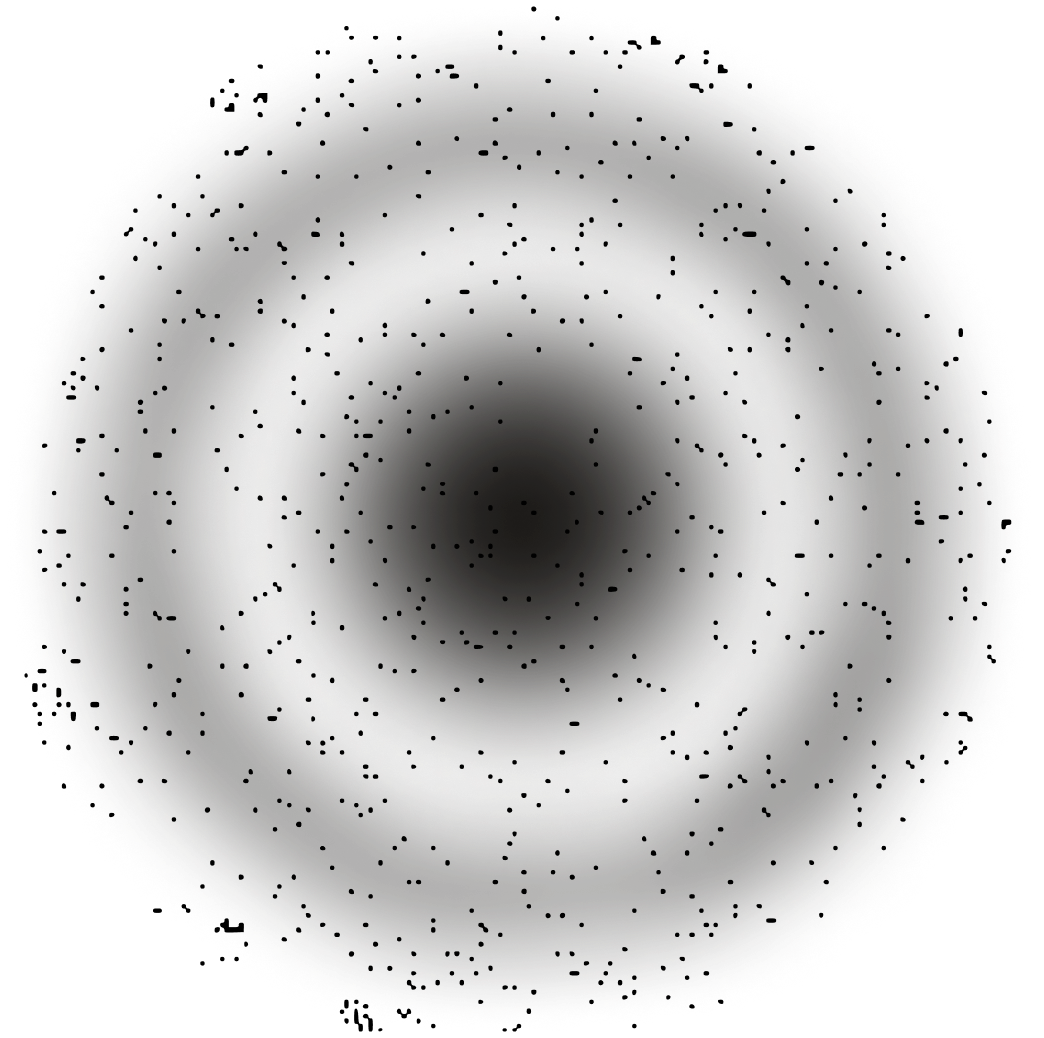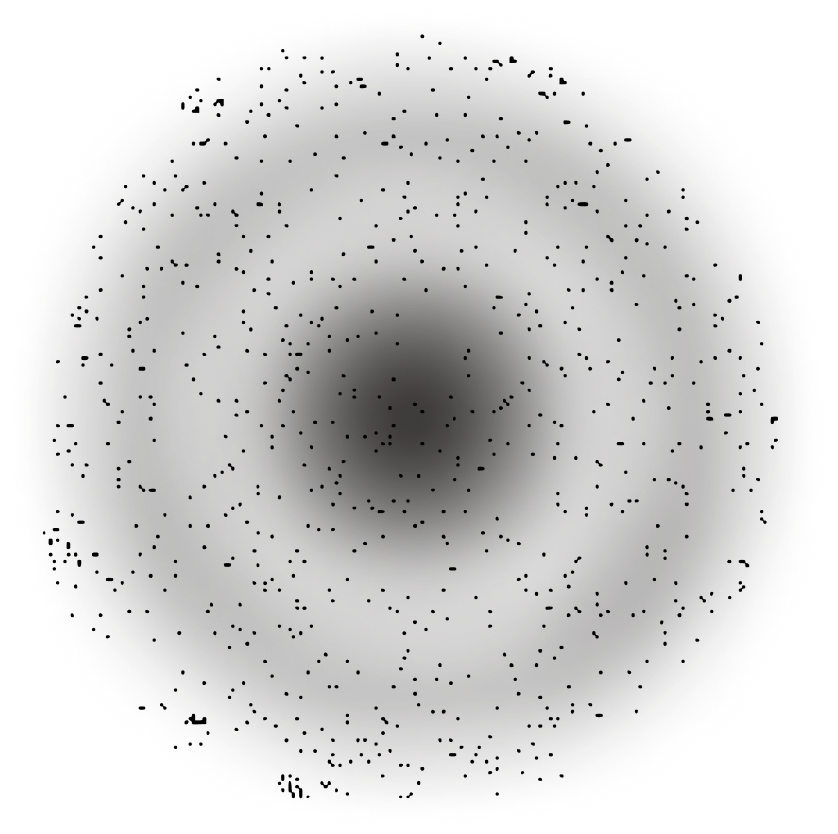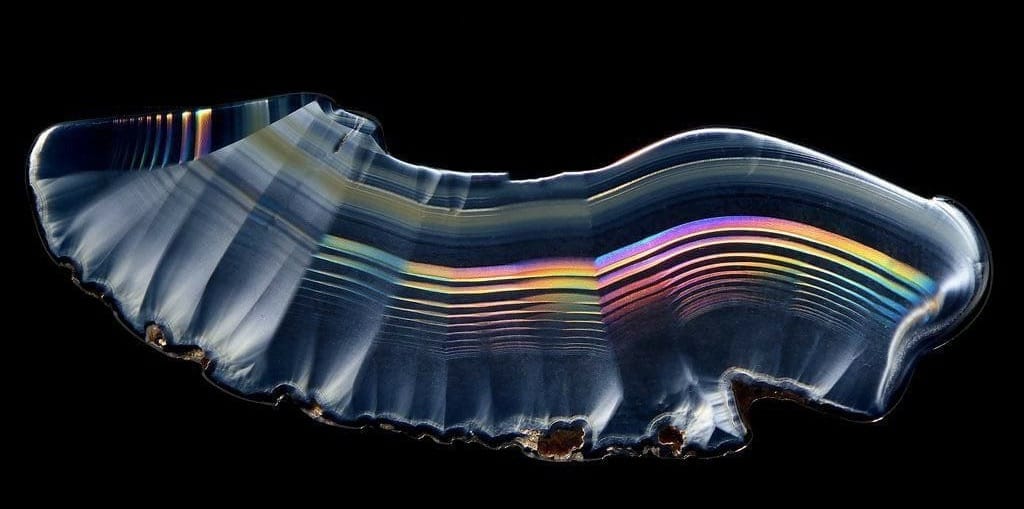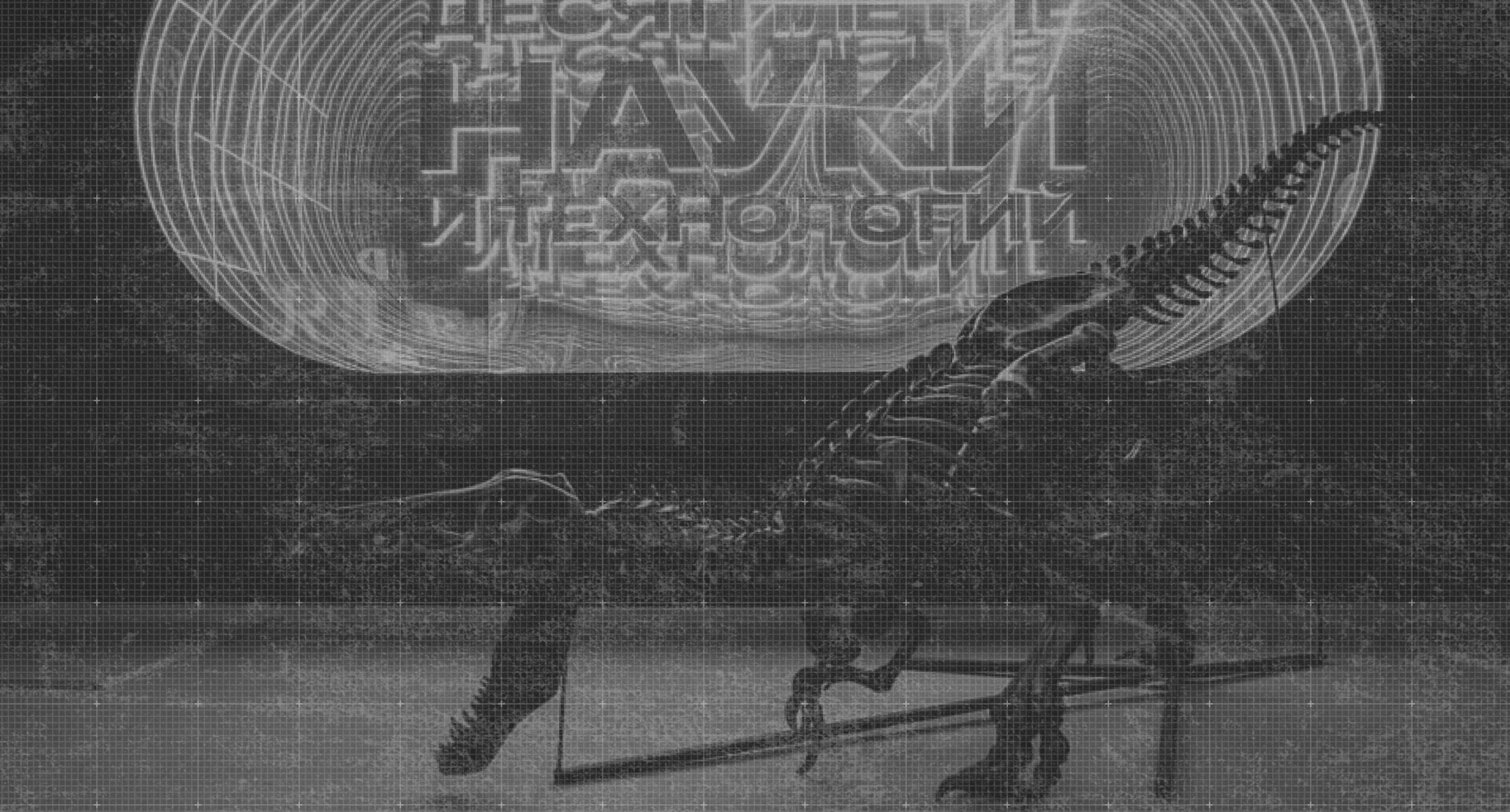16 November, 2021
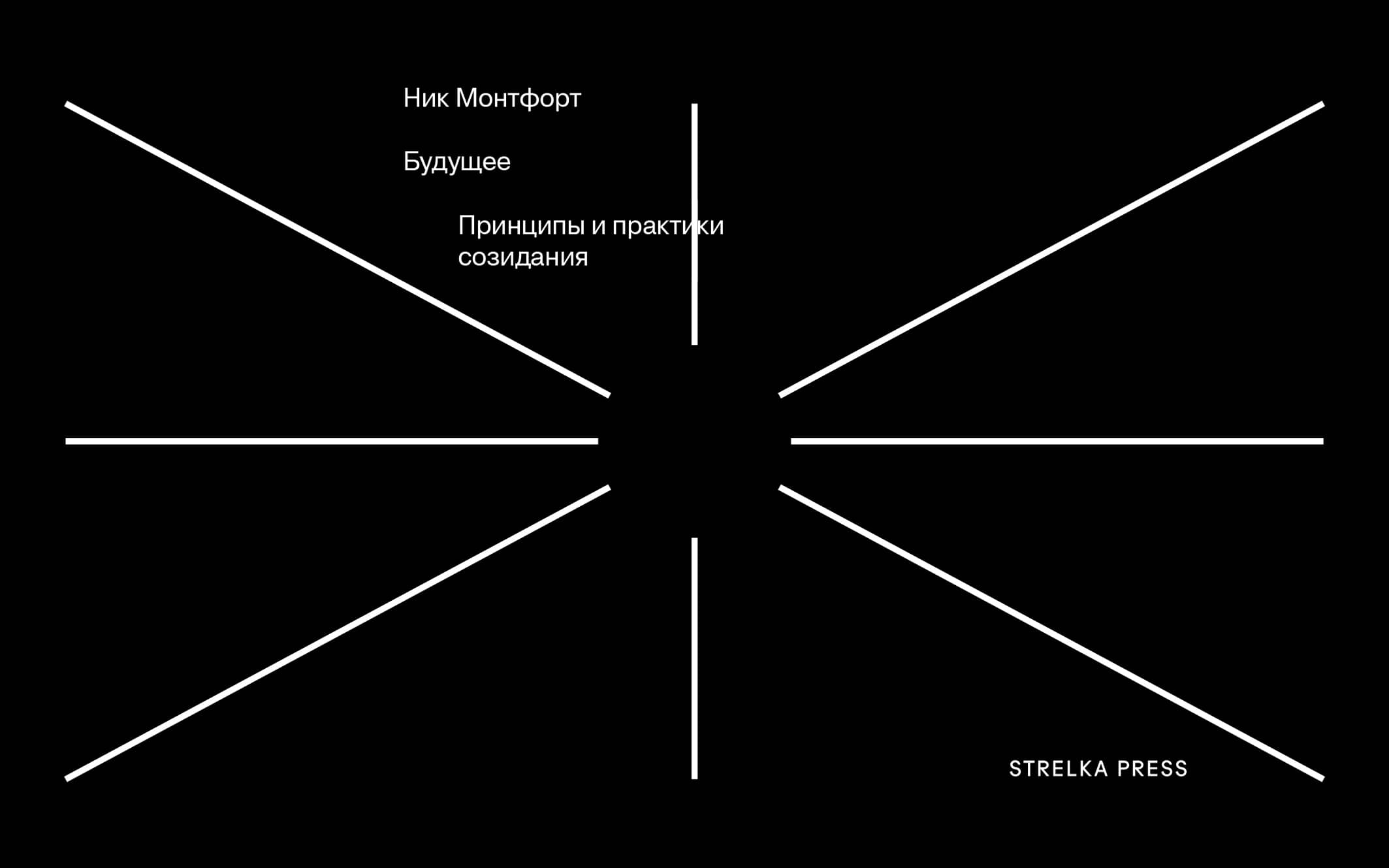
Этот текст опубликован до 24 февраля 2022 года.
В издательстве Strelka Press вышла на русском языке книга Ника Монтфорта «Будущее: принципы и практики созидания». В ней профессор знаменитого Массачусетского технологического института анализирует, как писатели, дизайнеры, архитекторы и изобретатели воображают будущее и какие инструменты используют, чтобы перейти от образов к практике. Сверхновая публикует фрагмент, в котором Монтфорт рассказывает об истоках литературных утопий и о том, что полезного можно почерпнуть у авторов художественных произведений, несмотря на всю идилличность и абстрактность их фантазий.
Наша следующая тема — произведения утопистов, описывающие вымышленные и зачастую идеальные общества, которые имеют отношение как к нам нынешним, так и к нашему будущему. В том, как эти литературные утопии написаны, стоит отметить две особенности созидания будущего — на первый взгляд необычные, но крайне значимые. Во-первых, когда описываемое общество полностью принадлежит к области вымысла и стоит в стороне от текущих новостей, порядков и вообще всяких жизненных реалий, появляется возможность опустить некоторые подробности и более убедительно высказаться о том, как людям стоило бы жить друг с другом. Во-вторых, эти сочинения показывают, что на наши размышления об обществе могут влиять самые радикальные и даже абсурдные фантазии. В утопии есть место не только правдоподобным и разумным альтернативам сегодняшнему укладу, но и крайне дерзким, таким, что стимулируют наши способности к критическому мышлению и открывают наше сознание для необычных идей.
Один из способов обрисовать будущее — это придумать несуществующее общество, которое могло бы стать своего рода маяком для общества современного. Среди первых утопий, как уже упоминалось, была сочиненная Платоном: в IV веке до нашей эры он изобразил в своем «Государстве» идеальное общество,где правили философы и откуда изгнаны поэты. Сам же обсуждаемый жанр заимствовал свое название у небольшой книги «Утопия», опубликованной Томасом Мором в 1516 году на латыни. Строго говоря, эта книга не о будущем — она описывала выдуманное общество своего времени,— но тем не менее она явственно показывала, как западное (и в частности английское) общество могло бы измениться в дальнейшем. В книге описана системно структурированная жизнедеятельность острова, жители которого во многом ведут себя как монахи, следующие «Уставу святого Бенедикта»: живут общей коммуной и занимаются ручным трудом. Утопию Мора называли «коммунистическим сообществом с добавлением христианских ценностей».

Кое в чем это общество, конечно, отличалось и от коммунизма в современном понимании, и от монашеского общежития. Не в пример монастырю, Утопия была гетеросоциальным пространством, где люди вступали в брак и растили детей. Перед женитьбой обнаженные партнеры подвергали друг друга тщательному осмотру, что, по мнению Мора, было вполне разумно: ведь даже лошадь перед покупкой внимательно осматривают на предмет болезней. Сложно представить себе всерьез такое нововведение, но в тоже время эта идея указывает на непрактичность брака между людьми, которые в остальном очень мало знают друг о друге. Почему мы требуем снять с лошади седло и пристально изучаем ее, а своим суженым не уделяем такого внимания?
Урок по созиданию будущего, который из этого следует,— утопическая идея не обязательно должна быть абсолютно серьезной, чтобы люди под ее влиянием начали думать по-новому и двигаться в направлении лучшего будущего. Предбрачный осмотр можно трактовать по-разному: например, как насмешку над одержимостью физической привлекательностью или высмеивание брака как института собственности (такое прочтение мне представляется вполне допустимым, хотя в эгалитарной Утопии процедуре инспектирования подлежат и жених, и невеста). Эпизод с осмотром также показывает, насколько отличаются наши представления о человеческом целомудрии и о подобающей лошадиной стати, хотя, вероятно, большинство читателей, размышляя о переустройстве общества, задумываются в первую очередь не об этом.
Можно с уверенностью утверждать, что «Утопия» не была полноценной пародией на общество времен Мора. Она представляла картину альтернативного общества, где не слишком много законов, люди живут коммуной, обеспечивают себя тем, что выращивают и мастерят сами, а также учатся на протяжении всей своей жизни. Как и в «Государстве» Платона, большинство описанных идей — это способы, которыми можно было бы переустроить и усовершенствовать реальное общество. Тем интереснее те немногие случаи, когда обычаи Утопии вызывают изумление. Эти случаи, во-первых, стимулируют самые разнонаправленные мысли о современном ему обществе и его устройстве. А во-вторых, напоминают о необходимости критического и взвешенного подхода. Даже если нам нравятся направление рассуждений автора и общественное устройство, которое он предлагает, не стоит принимать каждую его идею за новую догму.
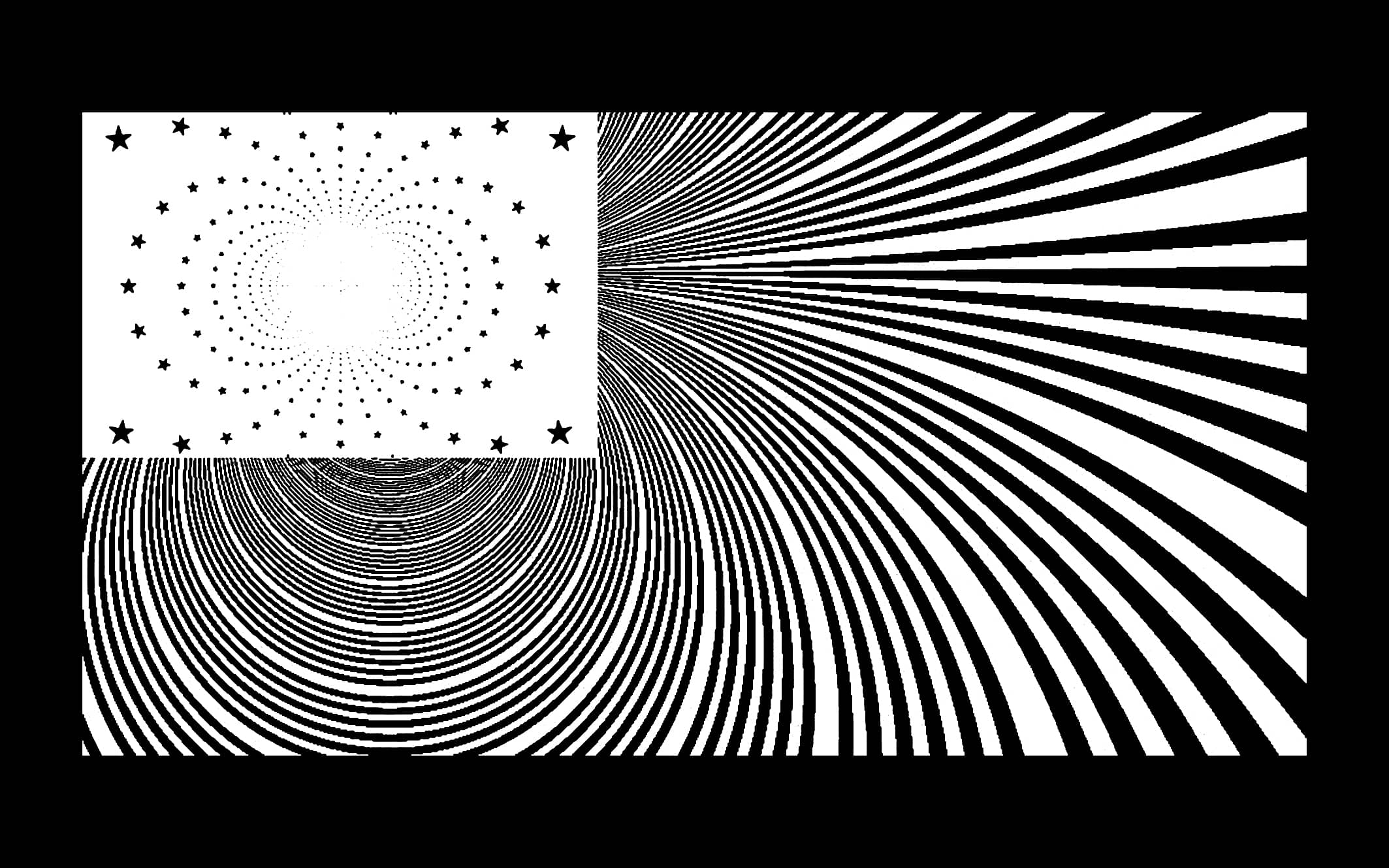
Утопии по-американски
Если обратиться к американским литературным утопиям, то в первую очередь необходимо выделить образ будущего в одной конкретной книге — вышедшем в 1888 году романе Эдварда Беллами «Через сто лет». Действие романа происходит в Бостоне в 2000 году, в нем описываются приключения человека, который, подобно заснувшему Рип ван Винклю (тот спал еще дольше), впал в транс в 1887 году и вышел из него живым и здоровым спустя сто с лишним лет. Как объясняется в предисловии, он обнаружил «социальное устройство одновременно столь простое и столь логичное, что оно казалось триумфом здравого смысла». Герой ходит по городу и поражается улучшению условий труда и изобилию продуктов и товаров, доступных каждому. Бостон и все Соединенные Штаты превратились в благодатную социалистическую утопию.
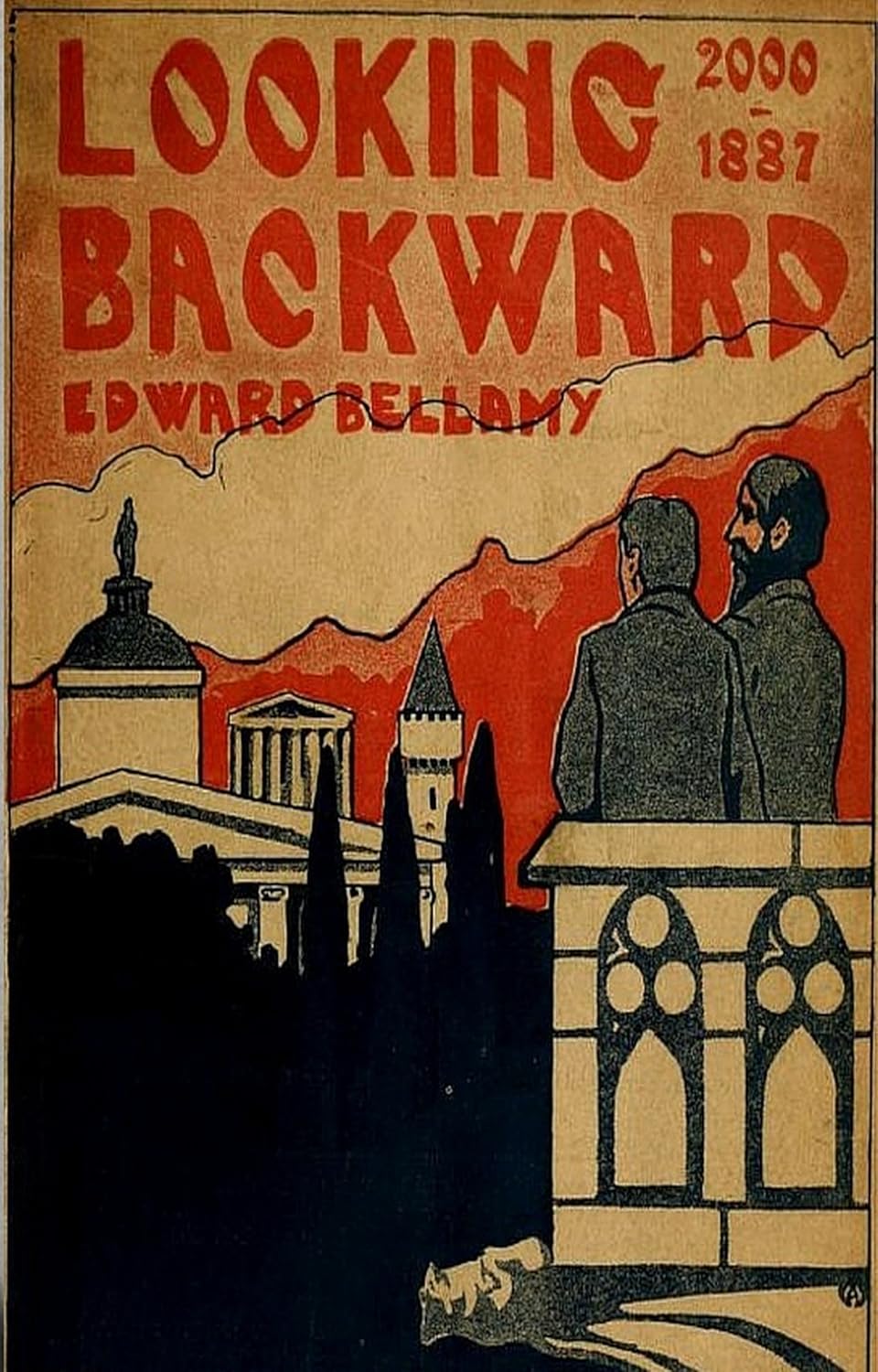
Вскоре после выхода романа издательство поменяло владельца, книга была переиздана и стала неимоверно популярной. За два года продали миллион экземпляров — показатель, который смогли превзойти только «Хижина дяди Тома» и «Бен-Гур», да и то на более длинных отрезках времени. Для обсуждения социалистических идей романа созда-вались десятки книжных клубов. Организаторы этих клубов — белламиты — называли их «националистическими» из-за негативных ассоциаций со словом «социализм», но по сути они были близки к социализму, а к тому, что мы сегодня называем национализмом, не имели никакого отношения. Эти клубы просуществовали всего несколько лет, но и они, и сама книга Беллами оказали серьезное влияние на теософское движение, которое впоследствии основало десятки утопических общин по всей Америке. Роман «Через сто лет» вызвал мощный отклик и в американской литературе: в ответ на него написали более ста пятидесяти книг, среди которых были как многочисленные сиквелы, так и произведения, полемизирующие с оригиналом.
Новое общество Беллами основано на идеях, сформулированных еще до выхода книги, и автор описывает реалии утопии с учетом современного ему контекста. Рассказчик, Джулиан Вест, родом из того же времени, что и его первые читатели, поэтому людям из 2000 года приходится объяснять ему, как функционирует это странное новое общество. В книге множество примеров того, чем отличается новое общественное устройство от существующего; возможно, самый яркий — когда рассказчик обнаруживает, что во время сильного ливня все спокойно обходятся без зонтов: «Дело объяснилось, когда мы очутились на улице,—сплошной непромокаемый навес был спущен над всем тротуаром и преобразил его в хорошо освещенный и совершенно сухой коридор, по которому мужчины и женщины шли разодетые к обеду». Как объясняет один из местных, «разница между веком индивидуализма и веком солидарности отлично характеризуется тем фактом, что во время дождя в девятнадцатом столетии жители Бостона открывали триста тысяч зонтов над таким же количеством голов, тогда как в двадцатом столетии они открывают единственный зонт над всеми головами».
Роман Беллами описывает общество изобилия, где каждому полагается определенная доля от объема произведенного — воздаяние, которое очевидно превышает любые потребности, но все равно регулируется. Для распределения товаров Беллами придумал то, что он назвал «кредитной картой» (первое в истории использование этого термина), хотя собственно покупок в кредит эта карта не предполагала. Все производство национализировано, а кредитная система обеспечивает равное распределение товаров. Никто не зарабатывает больше других — просто те, кто выполняет особенно неприятную работу, трудятся на несколько часов меньше. Женщины в этом обществе имеют почти те же права, что и мужчины, и работают наравне с ними, хотя «более тяжелые работы предоставляются мужчинам, а более легкие — женщинам».
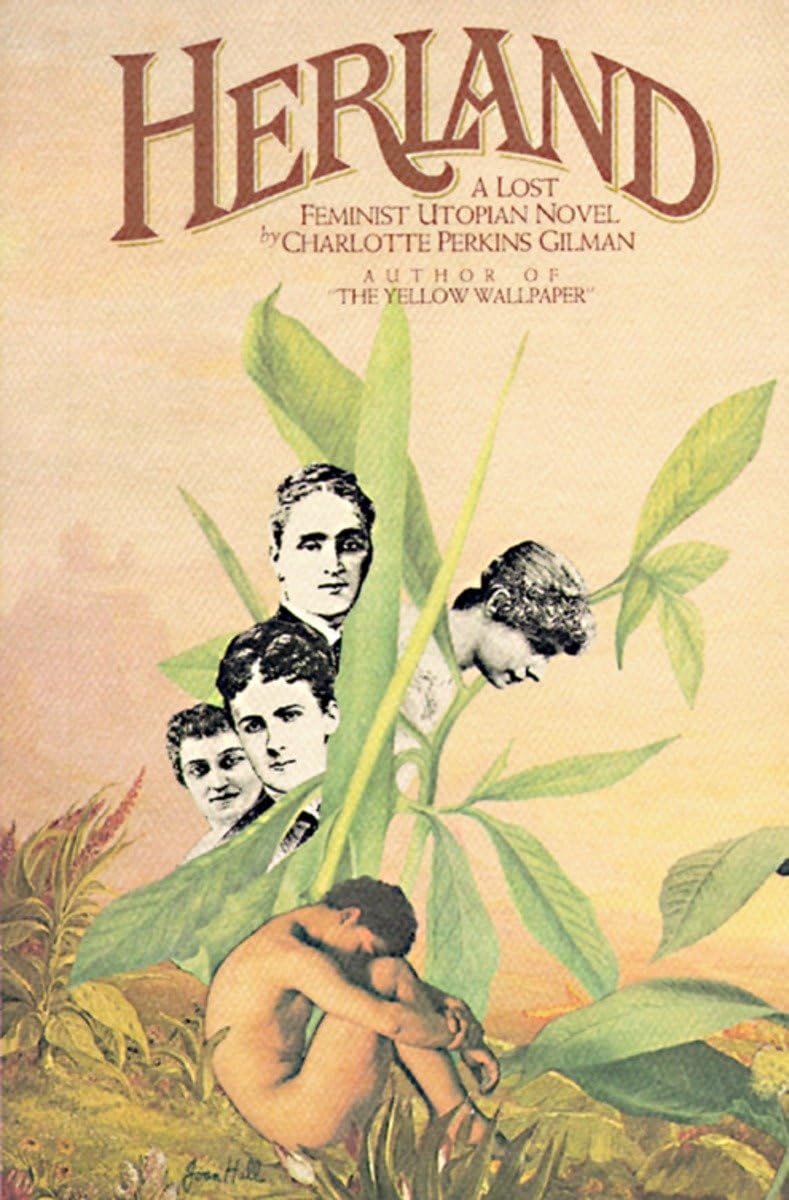
Другая любопытная модель общества, где также уделено внимание этой проблеме, встречается в романе «Ее земля» (Herland) американки Шарлотты Перкинс Гилман, впервые опубликованном в 1915 году. В этой книге трое героев в поисках приключений оказываются в изолированном обществе, состоящем только из женщин (как объясняется в книге, они способны к репродукции без участия мужчин). Девушки и женщины прекрасно справляются с любой работой, от традиционных в американской культуре женских обязанностей вроде чтения детям до строительства. Они процветают, обходятся без механической зубрежки в обучении, разумно управляют своим обществом и носят одежду с большим количеством карманов.
«Ее земля» предлагает некоторые реформы социального устройства и продвигает определенный тип феминистской мысли, но вряд ли Гилман буквально хотела сказать, что идеальное общество должно быть изолированным, не индустриальным и состоящим только из женщин. Убедительно изображая женщин во всевозможных социальных ролях, автор скорее стремится показать, что ограничивать число этих ролей бессмысленно, даже в обществе, состоящем из мужчин и женщин. Книгу критиковали не только за недостоверность асексуальной репродукции, но и, например, за высокомерие по отношению к туземцам, которых Гилман регулярно называет «дикарями». Несмотря на подобные недостатки, роман остается примером впечатляющей работы воображения, особенно с учетом того, что на момент его публикации женщины в США еще не имели права голосовать.
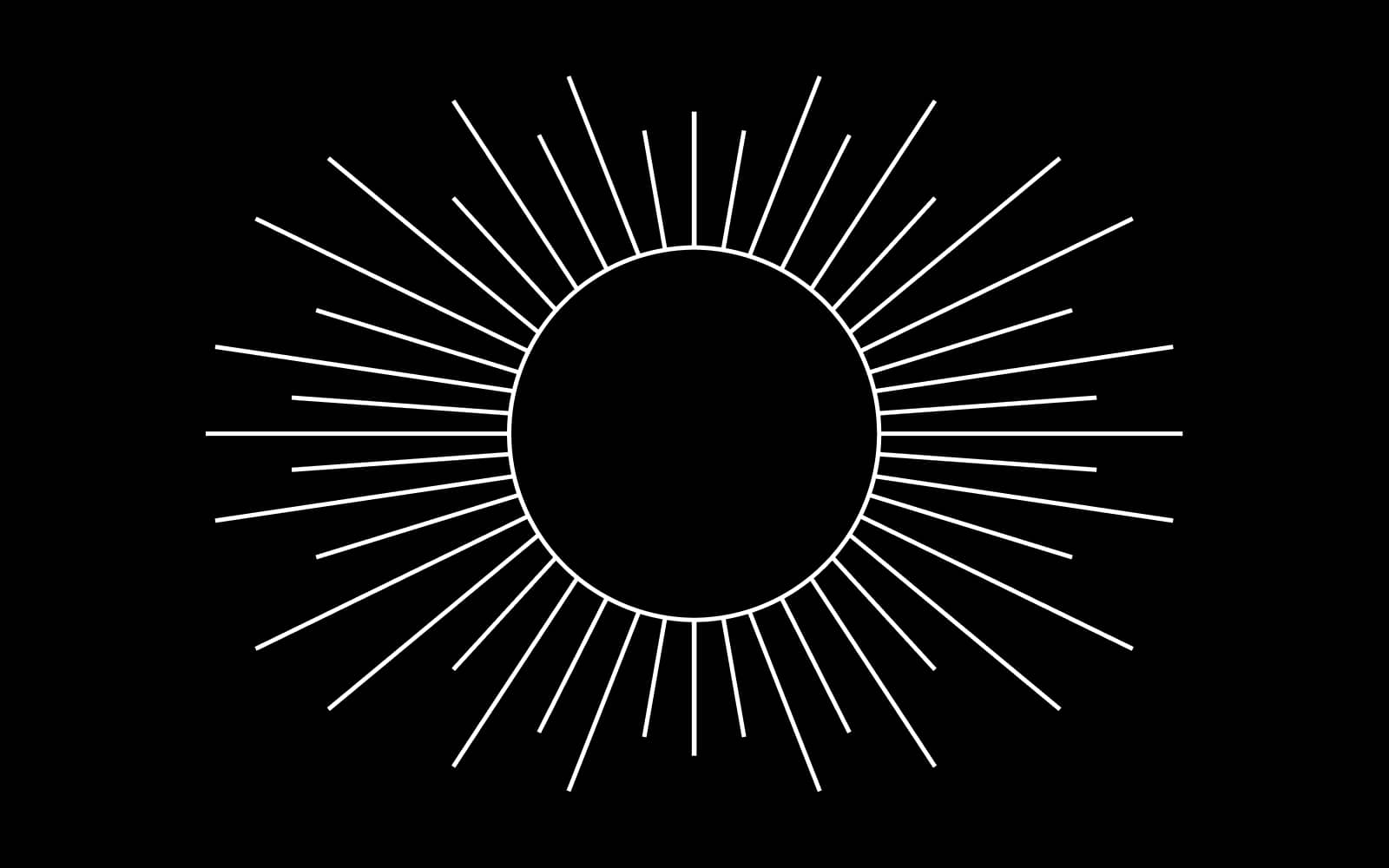
Созидание будущего в утопиях
Утопия Мора, Бостон Беллами и женское общество Гилман — все они представляют идеал или почти идеал, как государство Платона. Однако те, кто изучает утопическую мысль и утопические произведения, проводят различие между утопией («несуществующим местом») и эвтопией («хорошим местом»). Утопия — это выдуманное общество, оно находится за рамками истории как альтернатива реальным обществам и не должно быть совершенным. Оно даже не обязательно лучше настоящего, ведь отрицательное, погрязшее в пороках воображаемое общество (дистопия, или антиутопия) — тоже вид утопии. Во многих известных романах действие разворачивается «нигде», а общество имеет как положительные, так и отрицательные черты; среди них «Путешествия Гулливера» Джонатана Свифта и «Едгин» Сэмюэла Батлера.
Один из механизмов действия утопии — это изображение правдоподобной альтернативы имеющемуся общественному укладу. Книга Мора подталкивала читателей к мысли о том, что общественная жизнь без частной собственности возможна. Книга Беллами достоверно показывала, как при разумном планировании общество может производить столько товаров, что каждый получит даже больше, чем нужно для хорошей жизни, а также распределять это изобилие, не оставляя никого в нищете. Читатели книги Гилман, вероятно, не согласились бы с тем, что идеальное общество должно состоять только из женщин, но сочли убедительным портрет женщины, способной выполнять любые общественные функции. Если мы можем представить себе такие возможности в рамках воображаемого мира, нам проще мысленно поместить их в собственную реальность.
Даже неправдоподобные моменты литературных утопий могут по разным причинам приносить пользу. Как любая сатира, они могут подчеркнуть, в каком безобразном обществе мы живем. Могут добавить критичности в наши рассуждения о лучшем будущем. Могут расширить наше представление о границах возможного. Благодаря тому что утопия уносит нас от специфики нашего места и времени в несуществующее место, нас могут посетить откровения,которые потом можно применить и к нашей реальности. Предположим, исключительно женское общество не могло бы существовать тысячи лет, но если бы могло, разве женщины в нем не справились бы со всеми задачами? А раз так, не разумно ли и в нашем обоеполом обществе позволить женщинам играть любую роль? Утопическое мышление часто связывают с глупостью, абсурдом, практичностью, но оно может быть полезно: перенос наших рассуждений из настоящего в несуществующую точку помогает свернуть с накатанной колеи.
Итак, утопии преподают два полезных урока для созидания будущего:
- Абстрагируясь от частностей настоящего, нужно обязательно сохранять в фокусе внимания человеческую природу —это поможет в разработке долгосрочных идей для будущего.
- В рассуждениях о будущем можно смешивать вероятное с невероятным, если есть основания выйти за рамки правдоподобия (сатира, стимуляция критического мышления, расширение рамок дискуссии).
Созидатель будущего порой делает что-нибудь умное — выдумывает новый термин или изобретает что-то особенное. Это, конечно, полезно, но куда более мощное воздействие оказывает цельное, связное видение, идеал, к которому можно стремиться и с которым можно искренне соглашаться или спорить. В случае с Беллами любопытно отметить, что он стал (в некоторой степени) изобретателем кредитной карты, но его подлинное влияние видно в десятках организаций, созданных для осмысления и продвижения его идей, и в десятках книг, написанных в продолжение начатого им разговора.